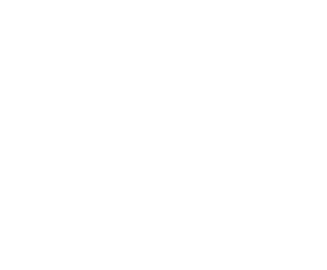Указ
Об именовании директора санкт-петербургских театров директором императорских театров
(«Закон суров, но это — закон»)
«Об именовании директора санкт-петербургских театров директором императорских театров».
Министр императорского двора, отношением от 2 февраля, сообщил ему, министру юстиции, что Государь император высочайше повелеть изволил: директору императорских санкт-петербургских театров, в управление которого поступили и московские театры, именоваться директором императорских театров, а директора московских театров переименовать в управляющего сими последними.
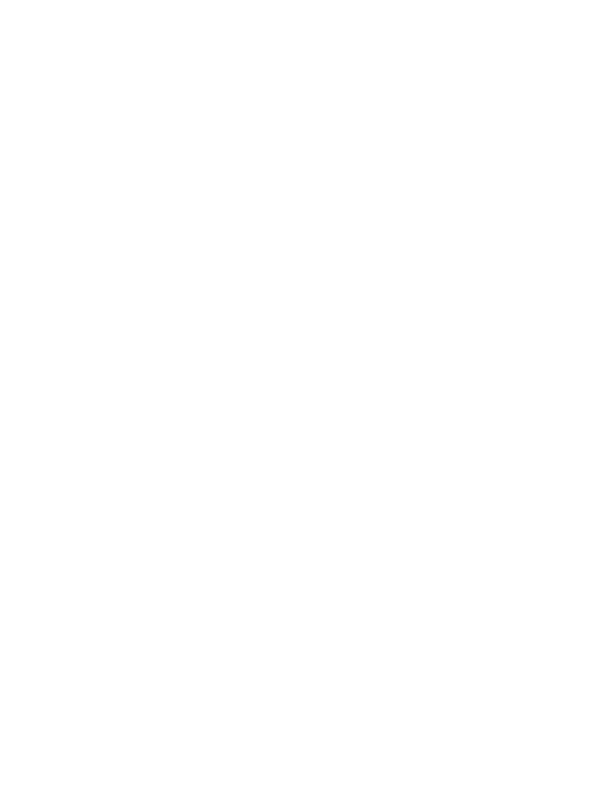

Из фондов СПбГТБ
Сейчас кажется странным, что это, казалось бы, безобидное произведение могло быть не пропущено драматической цензурой для постановки на сцене. Цензора пьеса смутила своей «грубостью и неприличием тона», а также он обратил особое внимание на конечную ремарку автора: «продолжительный поцелуй», соединяющий героя и героиню в финале. «К представлению на сцене она совершенно непригодна», — заключает свое мнение о шутке Чехова цензор. Однако начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов считал иначе: «Я эту пьесу читал. Мне кажется, что следовало бы исключить из нее некоторые грубые выражения, а что касается сюжета, то при всей пустоте его, он не содержит ничего предосудительного».* Всего месяц спустя, 28 октября 1888 года, водевиль был с успехом сыгран на сцене московского театра Корша. Роль Смирнова блестяще исполнил артист, которому изначально А. П. Чехов и посвятил свою пьесу — Николай Николаевич Соловцов.
Водевили Чехова всегда пользовались большим успехом у зрителей. На александринской сцене наиболее популярной оказалась именно эта шутка в одном действии.
Еще в декабре 1888 года Мария Гавриловна Савина, Владимир Николаевич Давыдов, Константин Александрович Варламов и Николай Федорович Сазонов играли «Медведя» на петербургских домашних сценах «у министров», как писал Чехов Суворину.
Первое исполнение водевиля в императорском театре состоялось только в феврале. Савина играла Попову, Сазонов — Смирнова, Варламов — Луку. Игра Савиной так нравилась автору потому, что актриса создавала роль из тонких психологических нюансов и избегала грубой фарсовости. Такое исполнение делало роль объемной и выражало все характерные детали, которыми Чехов наделил образ.
А вот игра Сазонова, напротив, совершенно не удовлетворяла Чехова. Драматург полагал, что внешняя условно-театральная характерность игры Сазонова портила пьесу. «Сазонов скверно играет в "Медведе", — писал он Суворину. — Это очень понятно. Актеры никогда не наблюдают обыкновенных людей».* Однако со временем Сазонова сменил Давыдов, для которого изначально и предполагалась эта роль. Таким образом, впоследствии состоялось идеальное трио исполнителей: Савина, Давыдов, Варламов. Эти большие мастера соединяли в своем исполнении виртуозную актерскую технику с убедительным существованием в роли. Именно такое искусство нужно было для игры в чеховских водевилях, где гипертрофированные положения соединялись с жизненной достоверностью и психологическими мотивациями героев.
На протяжении 1890 — 1900-х годов «Медведь» был, пожалуй, самой репертуарной пьесой Чехова в Александринском театре. С ним мог соперничать лишь другой его водевиль «Предложение», первое исполнение которого на императорской сцене состоялось в том же 1889 году.*
Действительно, литературность, богатый материал для актерской игры и острота положений, — вот те качества, которые привлекали корифеев императорской сцены к водевилям Чехова. Крупные артисты любили брать их в свои бенефисы. Практически все чеховские водевили вошли в репертуар александринской сцены.
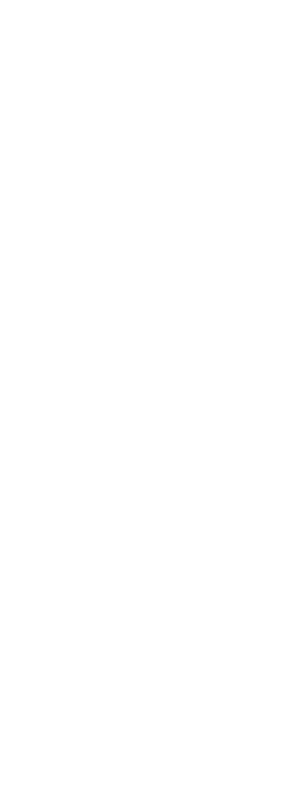
Афиша спектакля. Из фондов СПбГМТМИ.