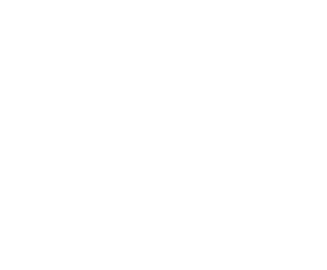17 января 1799 года родилась Авдотья (Евдокия) Истомина — одна из самых знаменитых балерин своего времени, танцовщица, своей пластикой и пируэтами восхищавшая современников и вдохновляющая художников и поэтов писать ее портреты и посвящать ей стихи.
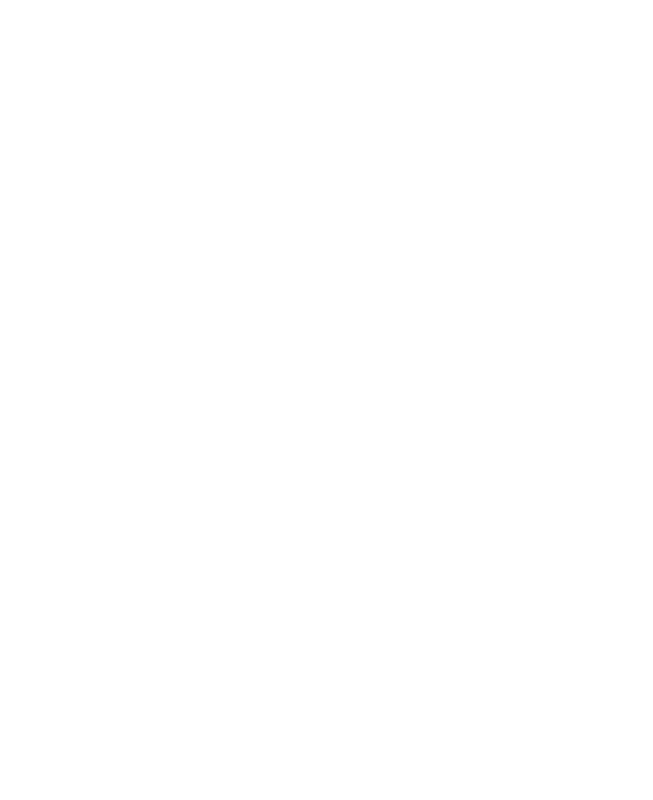
Портрет А. И. Истоминой.
Художник А.-Ф. Ризенер.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.
А. С. Пушкин увековечил Истомину, почти осязаемо описав в стихах ее вдохновенный танец. Легкая, необыкновенно грациозная, уверенная на сцене, актриса обладала красивой наружностью. «Среднего роста, стройная брюнетка, с морем огня в черных и полных страсти глазах, прикрытых длинными ресницами, особенно оттенявших ее лицо»* была всегда окружена восторженными поклонниками.
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.
А. С. Пушкин увековечил Истомину, почти осязаемо описав в стихах ее вдохновенный танец. Легкая, необыкновенно грациозная, уверенная на сцене, актриса обладала красивой наружностью. «Среднего роста, стройная брюнетка, с морем огня в черных и полных страсти глазах, прикрытых длинными ресницами, особенно оттенявших ее лицо»* была всегда окружена восторженными поклонниками.
Арапов П. Н. Памяти А. И. Истоминой // Театр и искусство. 1898. № 25 (21 июня). С. 452.
В 1816 году балерина окончила Петербургское театральное училище, где была одной из блестящих учениц «венчанного славой» Ш.-Л. Дидло. Будучи еще воспитанницей, она дебютировала на сцене Большого (Каменного) театра в балете «Ацис и Галатея», вскоре заняв положение ведущей танцовщицы балетной труппы. Балет, в котором Истомина исполнила роль Галатеи, отличался напряженным сюжетом, заставляя зрителей «ежеминутно трепетать», сопереживая влюбленным главным героям красочного действа.
Прославилась танцовщица и в партии Флоры в балете Ш. Дидло «Зефир и Флора». Именно на этом спектакле, показанном еще в январе 1808 года на сцене Эрмитажного театра, русские зрители впервые увидели знаменитые «полеты» с движущимися крыльями. Истомина вышла в новой редакции балета в 1818 году. Перед взором потрясенной публикой распускался розовый куст и неожиданно на глазах зрителей превращался во взлетающее облако, над залом летали нимфы и божества, на сцене бил фонтан, шумел водопад у храма Венеры… Все эти спецэффекты, придуманные Дидло, придавали представлению зрелищность в дополнение к красивому танцу.
Художник Федор Иванович Иордан, будучи еще учеником Императорской Академии художеств, запечатлел балерину в этой роли. «Сохранившийся портрет передает прелесть этих больших "томных" и выразительных глаз, великолепно очерченных тонких бровей, правильного лица несколько округлого овала, развитых форм, свидетельствующих о некоторой склонности к полноте. Острые языки сравнивали Флору—Истомину с богиней плодов Помоной... В свою цветущую пору Истомина носила на себе отпечаток красоты именно русской», — писал Л. Гроссман.*
Художник Федор Иванович Иордан, будучи еще учеником Императорской Академии художеств, запечатлел балерину в этой роли. «Сохранившийся портрет передает прелесть этих больших "томных" и выразительных глаз, великолепно очерченных тонких бровей, правильного лица несколько округлого овала, развитых форм, свидетельствующих о некоторой склонности к полноте. Острые языки сравнивали Флору—Истомину с богиней плодов Помоной... В свою цветущую пору Истомина носила на себе отпечаток красоты именно русской», — писал Л. Гроссман.*
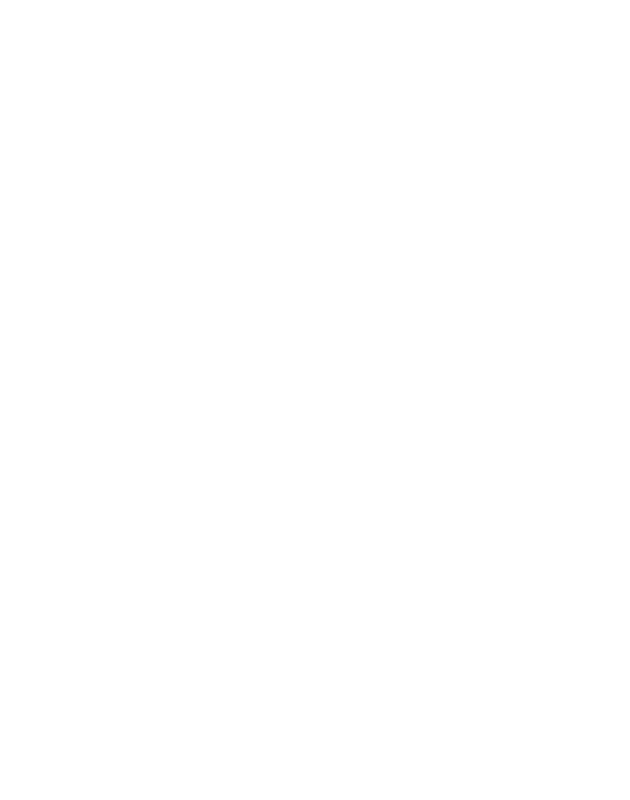
Портрет А. И. Истоминой в роли Флоры в балете «Зефир и Флора». Художник Ф. И. Иордан.
Гроссман Л. П. Пушкин в театральных креслах // Гроссман Л. П. Записки Д’Аршиака. Пушкин в театральных креслах. Москва, 1990. С. 350.
Цит. по: Гроссман Л. П. Пушкин в театральных креслах // Гроссман Л. П. Записки Д’Аршиака. Пушкин в театральных креслах. Москва, 1990. С. 351.
Восемнадцатилетняя Истомина восхищала и сводила с ума. В течение некоторого времени Пушкин даже считал себя влюбленным в танцовщицу — как он сам писал, «когда-то волочился» за нею. «Страстная, увлекающаяся, она легко поддавалась вспышкам любви», — свидетельствуют предания старого балета.*

Портрет А. И. Истоминой в образе вакханки. Художник А. Винтергальтер.
Этот легкий и пылкий нрав вызвал неожиданную трагедию в кругу известных театралов. Главным виновником трагического приключения был приятель А. С. Грибоедова камер-юнкер Александр Завадовский, у которого на квартире он жил. Юная Истомина жила с кавалергардом Василием Шереметевым, молодым человеком «мало чем выделялся из общей массы тогдашней военно-театральной молодежи»*. Веселый, слегка ветреный молодой человек безумно ревновал свою избранницу, постоянно окруженную толпами поклонников. Как-то после очередного выяснения отношений Истомина решила на время поселиться у подруги. Грибоедов, встретившись с Истоминой в театре, пригласил ее поехать пить чай в их с Завадовским квартиру, зная, что его друг был влюблен в танцовщицу. Истомина согласилась... Повод для поединка был более чем достаточен. Шереметев, возмутившись, вызвал на дуэль Завадовского, а поскольку в эту историю был замешан Грибоедов, то он получил вызов от друга Шереметева, Александра Якубовича — бретера, театрала, оратора, впоследствии декабриста. Двойной поединок, вошедший в историю как «дуэль четверых», состоялся на Волковом поле. Первая дуэль окончилась трагически: Шереметев был тяжело ранен Завадовским и вскоре умер. Якубович с Грибоедовым отложили поединок, и он состоялся через несколько лет, в 1819 году на Кавказе.
Гроссман Л. П. Пушкин в театральных креслах // Гроссман Л. П. Записки Д’Аршиака. Пушкин в театральных креслах. Москва, 1990. С. 352.
Пуля Якубовича повредила кисть Грибоедова. «По некоторым свидетельствам, рана эта была нанесена Якубовичем намеренно, с целью лишить даровитого пианиста Грибоедова возможности заниматься любимым искусством»*. И именно по изуродованному пальцу опознали его тело после тегеранской резни в январе 1829 года.
Гроссман Л. П. Пушкин в театральных креслах // Гроссман Л. П. Записки Д’Аршиака. Пушкин в театральных креслах. Москва, 1990. С. 353.
Трагический случай никак не отразился на карьере Истоминой. Талантливая балерина блистала в главных ролях чуть ли не во всех постановках своего педагога Шарля Дидло. 15 января 1823 года состоялась премьера балета «Кавказский пленник, или Тень невесты» по мотивам поэмы А. С. Пушкина, где Истомина исполнила партию Черкешенки.
Способность Истоминой к перевоплощению была поистине великолепной. Балерина находила всегда новые и яркие краски для каждого создаваемого ею сценического образа, не пользовалась заученными штампами, каждую партию исполняя по-разному, отыскивая присущие лишь этому персонажу оттенки движений. Она сумела с такой точностью передать пластику и мимику восточной девушки, что после премьеры «Кавказского пленника» по Петербургу распространились даже слухи, что Истомина действительно черкешенка по происхождению.
Станцевала Истомина и еще в одном балете по пушкинскому сюжету: 8 декабря 1824 году в Большом (Каменном) театре петербургская публика впервые увидела в ее исполнении Людмилу в балете «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника», перенесенном из Москвы на столичную сцену Ш. Дидло.
Пушкинские роли стали зенитом ее творчества. Со временем она танцевала все реже, продолжая выступать в маленьких ролях, не теряя при этом своей выразительности и исполнительского таланта. Последнее ее выступление состоялось 30 января 1836 года. Покинув театр, Истомина вышла замуж за драматического актера Павла Семеновича Экунина.
Станцевала Истомина и еще в одном балете по пушкинскому сюжету: 8 декабря 1824 году в Большом (Каменном) театре петербургская публика впервые увидела в ее исполнении Людмилу в балете «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника», перенесенном из Москвы на столичную сцену Ш. Дидло.
Пушкинские роли стали зенитом ее творчества. Со временем она танцевала все реже, продолжая выступать в маленьких ролях, не теряя при этом своей выразительности и исполнительского таланта. Последнее ее выступление состоялось 30 января 1836 года. Покинув театр, Истомина вышла замуж за драматического актера Павла Семеновича Экунина.

Портрет А. И. Истоминой. Неизвестный художник. Конец 1830-х гг.
17 января 1894 года в Мариинском театре состоялась премьера оперы Дж. Верди «Фальстаф» в России. Дирижером выступил Эдуард Францевич Направник, режиссером Осип Осипович Палечек.
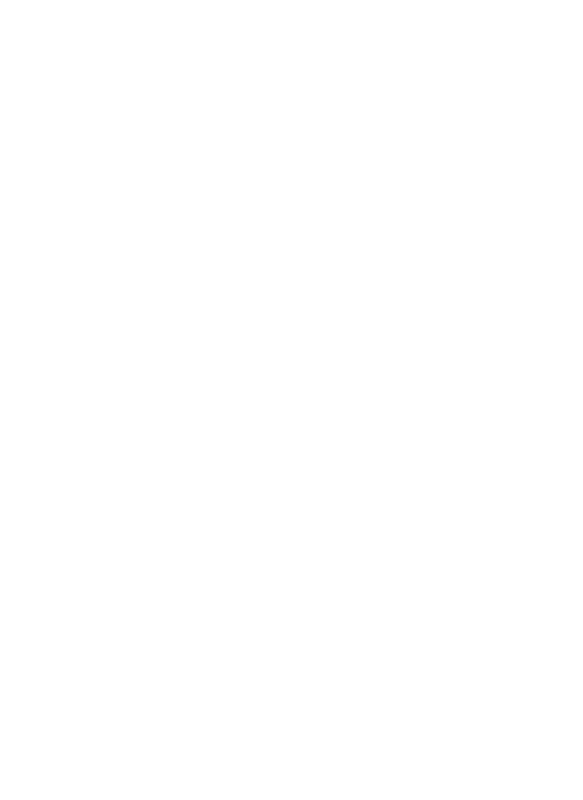
Портрет Джузеппе Верди. Художник Джованни Больдини.
Замысел оперы композитор вынашивал около сорока лет. «После того, как я убил столько героев, у меня наконец-то есть право немного посмеяться»,— говорил Джузеппе Верди.
Создание первой комической оперы Джузеппе Верди — «Король на час» («Мнимый Станислав») — пришлось на трагический период жизни композитора, когда он, лишившись двоих детей, потерял и жену. Позже Верди писал: «Вся моя семья погибла… и в этом состоянии ужасной муки я должен был сочинять комическую оперу».
Неудивительно, что премьера в Театре Ла Скала в 1840 году закончилась провалом, который Верди переживал крайне тяжело. Последующую славу маэстро приносили исключительно драматические сюжеты, но присущий ему юмор ждал своего часа и на закате жизни воплотился в виртуозную лирическую комедию.
Долгожданная премьера последней, двадцать шестой оперы Дж. Верди «Фальстаф» в 3 действиях, 6 картинах, на либретто Арриго Бойто по пьесам Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские насмешницы», состоялась 9 февраля 1893 года в Ла Скала и вылилась в грандиозное чествование 80-летнего композитора.
Создание первой комической оперы Джузеппе Верди — «Король на час» («Мнимый Станислав») — пришлось на трагический период жизни композитора, когда он, лишившись двоих детей, потерял и жену. Позже Верди писал: «Вся моя семья погибла… и в этом состоянии ужасной муки я должен был сочинять комическую оперу».
Неудивительно, что премьера в Театре Ла Скала в 1840 году закончилась провалом, который Верди переживал крайне тяжело. Последующую славу маэстро приносили исключительно драматические сюжеты, но присущий ему юмор ждал своего часа и на закате жизни воплотился в виртуозную лирическую комедию.
Долгожданная премьера последней, двадцать шестой оперы Дж. Верди «Фальстаф» в 3 действиях, 6 картинах, на либретто Арриго Бойто по пьесам Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские насмешницы», состоялась 9 февраля 1893 года в Ла Скала и вылилась в грандиозное чествование 80-летнего композитора.

Верди с певцами на репетиции «Фальстафа». Художник А. Хохенштейн. Из фондов Archivio Storico Ricordi.
Дирекция Императорских театров во главе с И. А. Всеволожским не могла пропустить столь выдающееся театральное событие и поспешила приобрести в Милане все необходимые для постановки материалы.
Уже в следующем сезоне оперу поставили в Мариинском театре. Под руководством дирижера Эдуарда Францевича Направника в спектакле приняли участие лучшие вокальные силы театра: Аркадий Яковлевич Чернов (Фальстаф), Иван Константинович Гончаров (Форд), Михаил Иванович Михайлов (Фентон), Евгения Константиновна Мравина (Алиса Форд), Федор Игнатьевич Стравинский (Пистоль) и др.
Критикуя либретто нового произведения Верди, рецензенты отмечали, что «вся опера написана с большим мастерством и знанием дела; декламация правильная, интересная, а оркестр, который обработан с особой любовью, характерно иллюстрирует и оттеняет происходящее на сцене... Исполнение оперы в общем отличное, а разучена и срепетована она безупречно и идет под управлением г. Крушевского* превосходно. Постановка тщательна, декорации красивые, костюмы хорошие, костюмы же Фальстафа вполне выдержаны и чрезвычайно типичны. Очень типичен г. Чернов, с внешней стороны, в заглавной роли, которую он почти все время выдерживает в должной мере».*
Фальстаф в исполнении Чернова являлся «главным образом хвастливым и трусливым толстяком-пьяницей, мечтающим, что все женщины от него [будут] без ума»*.
Критикуя либретто нового произведения Верди, рецензенты отмечали, что «вся опера написана с большим мастерством и знанием дела; декламация правильная, интересная, а оркестр, который обработан с особой любовью, характерно иллюстрирует и оттеняет происходящее на сцене... Исполнение оперы в общем отличное, а разучена и срепетована она безупречно и идет под управлением г. Крушевского* превосходно. Постановка тщательна, декорации красивые, костюмы хорошие, костюмы же Фальстафа вполне выдержаны и чрезвычайно типичны. Очень типичен г. Чернов, с внешней стороны, в заглавной роли, которую он почти все время выдерживает в должной мере».*
Фальстаф в исполнении Чернова являлся «главным образом хвастливым и трусливым толстяком-пьяницей, мечтающим, что все женщины от него [будут] без ума»*.

Программка спектакля. Из фондов СПбГМТМИ.
Эдуард Андреевич Крушевский (1851–1916) — дирижер и композитор, капельмейстер Мариинского театра.
Лель [Обозрение музыкальных событий] // Артист. 1894. № 34 (февр.). С. 254.
Ежегодник Императорских театров. Сезон 1893/1894. Санкт-Петербург, 1895. С. 214.
А. Я. Чернов в партии Фальстафа. Из фондов СПбГМТМИ.
Эскиз костюма Фальстафа. Художник А. Хохенштейн. Из фондов СПбГТБ.
А. Я. Чернов в партии Фальстафа. Из фондов СПбГМТМИ.
Эскиз костюма Фальстафа. Художник А. Хохенштейн. Из фондов СПбГТБ.
Отмечали удачное оформление оперы, выполненное с необыкновенной тщательностью и исторической достоверностью. Известно, что работа над постановкой в Италии шла под контролем самого композитора: он сам прослушивал и отбирал исполнителей, частным образом занимался с солистами, присутствовал на репетициях, а также утверждал сценическое оформление.
Поскольку петербургские художники и декораторы в точности следовали миланским эскизам, 17 января 1894 года перед зрителями предстали декорации и костюмы, одобренные Верди и соответствующие визуальному образу спектакля Ла Скала.
Эскиз костюма Наннетты. Художник А. Хохенштейн. Из фондов СПбГТБ.
Эскиз костюма Мэг Пэдж. Художник А. Хохенштейн. Из фондов СПбГТБ.
Эскиз костюма Алисы Форд. Художник А. Хохенштейн. Из фондов СПбГТБ.
Эскиз костюма Квикли. Художник А. Хохенштейн. Из фондов СПбГТБ.
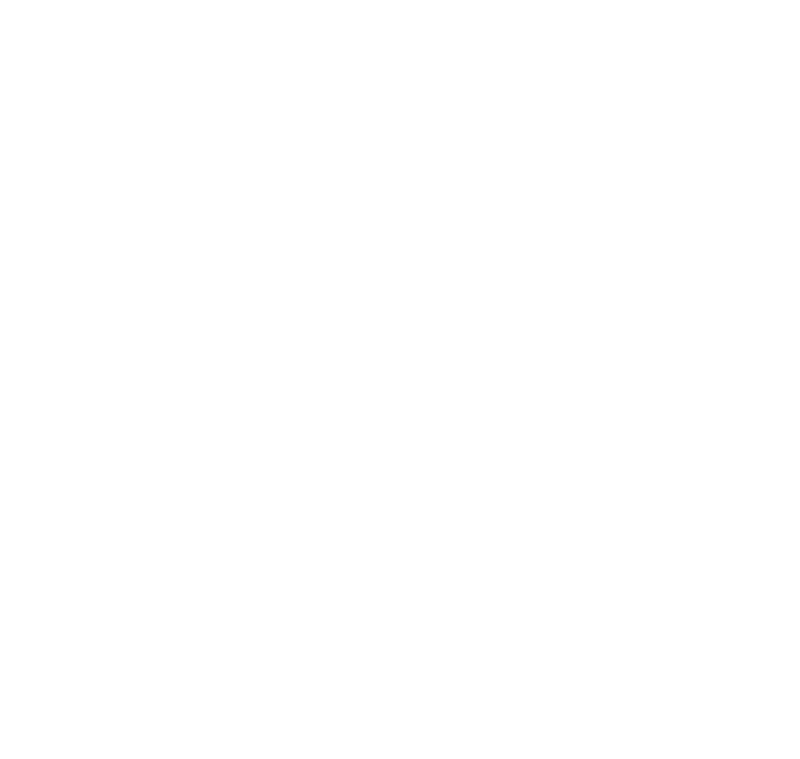
Сцена из спектакля. М. А. Славина — Квикли, М. И. Долина — Мэг Пэдж, Е. К. Мравина — Алиса Форд, М. А. Михайлова — Наннетта.
Поставленный в России «Фальстаф» не сразу завоевал любовь меломанов. Утверждали, что опера прошла без успеха, публика скучала, не одобряя новой, декламационной манеры Верди. Ещё более прохладно отнеслись к ней музыкальные критики, озабоченные в то время возрождением русской оперы и выступающие против засилья иностранных композиторов на Императорской сцене, в особенности, против «италомании».
Один из авторов «Русской музыкальной газеты» писал: «Об этом произведении говорить много не придется потому, что к "Фальстафу" серьезно отнестись нельзя — это не опера, ещё менее "лирическая комедия" — это просто старческая немочь».*
Прошло всего несколько представлений, и спектакль был снят с репертуара. Возрождение оперы на русской сцене наступило уже в советский период.
Один из авторов «Русской музыкальной газеты» писал: «Об этом произведении говорить много не придется потому, что к "Фальстафу" серьезно отнестись нельзя — это не опера, ещё менее "лирическая комедия" — это просто старческая немочь».*
Прошло всего несколько представлений, и спектакль был снят с репертуара. Возрождение оперы на русской сцене наступило уже в советский период.
«Фальстаф» — Верди // Русская музыкальная газета. 1894. № 2. С. 43.
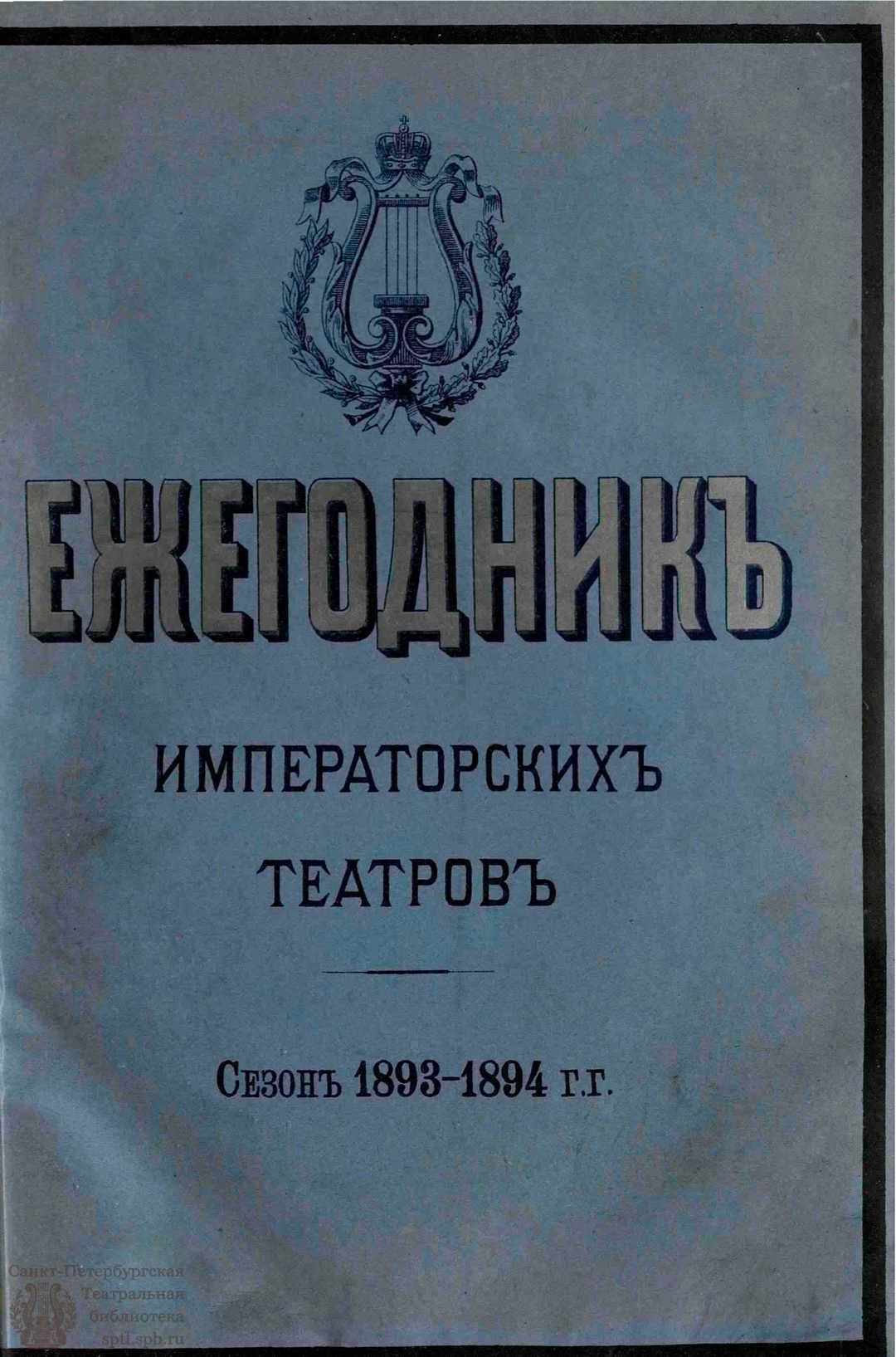
Ежегодник Императорских театров. Сезон 1893/1894. Санкт-Петербург, 1895. С. 212-222.