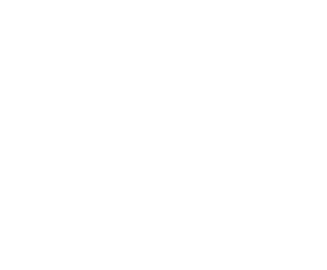«Балеты г. Дидло исполнены живости, воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более Поэзии, нежели во всей французской литературе»
- Александр Пушкин -
27 марта 1767 г. родился замечательный мастер сценических зрелищ с блистательной творческой фантазией, великий французский танцовщик, балетмейстер и педагог, с 1801 года проживавший и работавший в России — Шарль (Карл) Луи (Людовик) Дидло.
Сын танцовщика стокгольмского Королевского балета, он учился в Париже, выступал в Лондоне и Бордо, работал со знаменитыми балетмейстерами-реформаторами балетного искусства Ж. Ж. Новером и Ж. Добервалем, которых считал своими учителями.
В 1801 году Дидло был приглашен в Петербург, где с ошеломляющим успехом дебютировал через год балетом «Аполлон и Дафна», а с 1804 года возглавил Петербургское Театральное училище. В 1811 году он возвращается в Европу, но почти сразу Дидло просят вернуться в Россию, уверяя его, что публика, ученики театральной школы и управление театрами ждут с горячим нетерпением его приезда. В 1816 он опять приезжает в Петербург и остается здесь до самой своей смерти*, не переставая до конца, даже в отставке, создавать свои замечательные балетные композиции.
С 1816 по 1829 гг. Дидло ставит в Петербурге более 40 балетов и дивертисментов. И если в первый петербургский период, до отъезда в Европу, это были, в основном, балеты на мифологические темы, то в 1820-х гг. в его творчестве стали преобладать романтические, сказочные и волшебные сюжеты, балеты на исторические и литературные темы, балеты-комедии.
В 1801 году Дидло был приглашен в Петербург, где с ошеломляющим успехом дебютировал через год балетом «Аполлон и Дафна», а с 1804 года возглавил Петербургское Театральное училище. В 1811 году он возвращается в Европу, но почти сразу Дидло просят вернуться в Россию, уверяя его, что публика, ученики театральной школы и управление театрами ждут с горячим нетерпением его приезда. В 1816 он опять приезжает в Петербург и остается здесь до самой своей смерти*, не переставая до конца, даже в отставке, создавать свои замечательные балетные композиции.
С 1816 по 1829 гг. Дидло ставит в Петербурге более 40 балетов и дивертисментов. И если в первый петербургский период, до отъезда в Европу, это были, в основном, балеты на мифологические темы, то в 1820-х гг. в его творчестве стали преобладать романтические, сказочные и волшебные сюжеты, балеты на исторические и литературные темы, балеты-комедии.
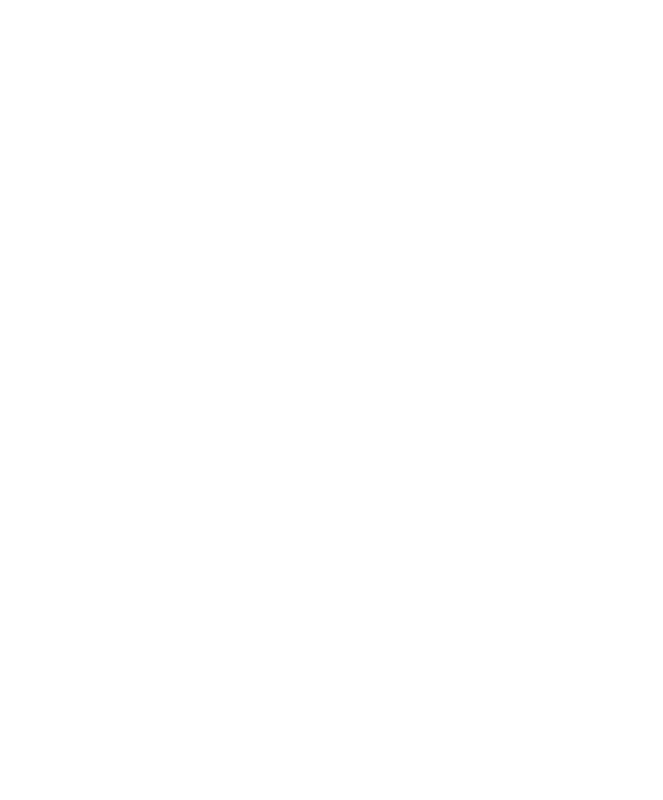
Портрет Ш.-Л. Дидло. Художник В. В. Баранов. 1820-е гг.
Его не стало в один год с А. С. Пушкиным — в 1837.
По словам В. М. Красовской, в годы работы в России Дидло был «полновластным хозяином петербургского балета: сочинял и ставил спектакли, исполнял в них первые роли, а также руководил школой».* Вся его деятельность способствовала выдвижению русского балетного театра на одно из первых мест в Европе.
Красовская В. М. История русского балета. Ленинград, 1978. С. 36.
Русский балет до Дидло не отличался значительно от придворного танца. Ценилось умение танцовщиков принимать изящные позы и выразительно жестикулировать, делать красивые поклоны и реверансы.
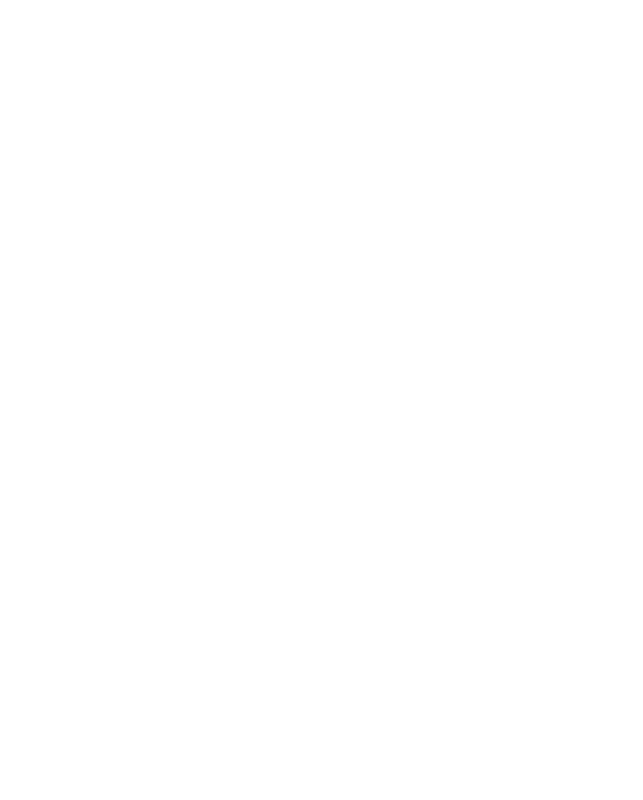
Портрет Ш.-Л. Дидло. Гравюра художника В. В. Баранова. 1820-е гг.
Дидло усложнил структуру балетов: танец стал не только более сложным и виртуозным, но получил у Дидло действенные права. Теперь танец живописал характеры, передавал взлеты и падения чувств.
«Активный и неутомимый, как всякая творческая натура, Дидло являл в совершенстве тип мастера танца, художника хореографии, замечательного создателя и организатора сложнейшего театрального зрелища. Слово "балетмейстер" и отдаленно не передает той огромной творческой и научно-теоретической работы, которая была связана в то время с ролью руководителя балетного спектакля. Это был одновременно драматург, композитор, режиссер и художник».*
Дидло в значительной мере усовершенствовал кордебалет, раздвинув рамки возможностей танцоров. Его балетам были свойственны большие темы, сильные страсти, драматическая содержательность. «Облик балетов Дидло — переворот в искусстве, насквозь новый подход к танцевальному зрелищу»,— писала Л. Д. Блок.*
«Активный и неутомимый, как всякая творческая натура, Дидло являл в совершенстве тип мастера танца, художника хореографии, замечательного создателя и организатора сложнейшего театрального зрелища. Слово "балетмейстер" и отдаленно не передает той огромной творческой и научно-теоретической работы, которая была связана в то время с ролью руководителя балетного спектакля. Это был одновременно драматург, композитор, режиссер и художник».*
Дидло в значительной мере усовершенствовал кордебалет, раздвинув рамки возможностей танцоров. Его балетам были свойственны большие темы, сильные страсти, драматическая содержательность. «Облик балетов Дидло — переворот в искусстве, насквозь новый подход к танцевальному зрелищу»,— писала Л. Д. Блок.*
Красовская В. М. История русского балета. Ленинград, 1978. С. 216.
Гроссман Л. П. Пушкин в театральных креслах // Гроссман Л. П. Записки Д’Аршиака. Пушкин в театральных креслах. Москва, 1990. С. 382.
Усложнение танца стало возможно в значительной степени благодаря осуществленной Дидло реформе костюма: он упразднил тяжёлую «униформу» танцовщиков — обязательные до того времени парики, шиньоны, кафтаны, башмаки с пряжками; их заменили обтягивающие трико и газовые туники. Облегчённые в весе танцоры могли совершенствовать собственную технику, чему Дидло уделял огромное внимание. Свои новации в области костюма Дидло начал еще в Европе, и там они были приняты далеко не сразу. Обтягивающее шелковое трико телесного цвета, изобретение которого приписывают Дидло и которое балетмейстер заказал для себя у одного из лучших местных портных, в Лондоне 1790-го года было воспринято как неприличное, вызвало протесты радетелей нравственности, скандал и отмену спектакля.*
См. : Никитина О. Костюм на европейской сцене: историческая правда и вымысел художника // Теория моды: одежда, тело, культура. 2016. № 41. С. 117-142.
Верховный жрец хореографического искусства.
Дидло — Байрон балета.
Дидло первым ввел в балет «полеты». «Например, в его большом балете "Амур и Психея" Венера появлялась на воздушной колеснице, окруженная пятьюдесятью живыми лебедями. В сцене ада демон прилетал из самой глубины сцены; амуры, черти и сильфы неслись прямо на публику и как бы по волшебству останавливались у самой рампы».*
Денисенко С. В. Балет // Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря. А-К. Санкт-Петербург, 2011. С. 50.
Зрители так были очарованы этими балетами, что совершенно забывали, что они в театре, воображая, что перенеслись в другой, фантастический мир.
Ход балета доказывает, что Дидло верный историк, редкий живописец и великий поэт.
Этот «верховный жрец хореографии»*, по воспоминаниям современников, представлял в жизни довольно комичную фигуру. «Он был среднего роста, худощавый, рябой, с небольшой лысиной; длинный горбатый нос, серые, быстрые глаза, острый подбородок; вообще вся его наружность была не больно красива... Высокие, туго накрахмаленные воротнички рубашки закрывали вполовину его костлявые щеки. Он постоянно был в каком-то неестественном движении, точно в его жилах была ртуть вместо крови. Голова его беспрестанно была занята сочинением какого-нибудь па или сюжетом нового балета, и потому подвижное его лицо ежеминутно изменялось; а всю его фигуру то и дело подергивало; ноги держал он необыкновенно выворотно и имел забавную привычку одну из них каждую минуту то поднимать, то отбрасывать в сторону... Эту штуку он выкидывал, даже ходя по улице, точно он страдал пляскою св. Вита. Кто видел его в первый раз, мог бы, конечно, принять его за помешанного, до того все его движения были странны, дики и угловаты».*
Гроссман Л. П. Пушкин в театральных креслах // Гроссман Л. П. Записки Д’Аршиака. Пушкин в театральных креслах. Москва, 1990. С. 389.
Каратыгин П. А. Из «Записок» П. А. Каратыгина // Гроссман Л. П. Пушкин в театральных креслах. Картины русской сцены 1817–1820 годов. Санкт-Петербург, 2005. С. 282.
Мемуарист Степан Жихарев, впервые увидевший Дидло в танце в конце 1806 года, писал: «Этот Дидло признается теперь лучшим современным хореографом в Европе, но по наружности своей он, верно, последний. Худой, как остов, с преогромным носом, в светло-рыжем парике, с лавровым на голове венком и с лирою в руках, он, несмотря на искусство, с каким танцевал свое pas, скорее был похож на карикатуру Аполлона, чем на самого светлого бога песнопений».*
В жизни Дидло был свойственен сильный темперамент, он был фанатиком своего дела и, по утверждениям современников, творил «в самозабвении». Леонид Гроссман приводит рассказ ученицы Дидло А. Е. Асенковой: «Во время репетиции в Эрмитаже балета "Амур и Психея" одной из танцовщиц кордебалета недостало лиры или вазы. Дидло в бешенстве бросился бежать по Невскому, имея на одной ноге красный сапог, на другой черный, без шапки, обмотав голову каким-то газовым радужных цветов покрывалом. В этом виде он прибежал в Малый театр, взял, что было нужно, и тем же трактом отправился назад. Народ, естественно, счел его сумасшедшим и валил за ним толпою».*
В 1829 году после ссоры с директором императорских театров князем С. С. Гагариным, который в качестве последнего аргумента в споре посадил пожилого хореографа, несмотря на его европейскую славу и преклонный возраст, под арест — Дидло подает в отставку. «До последней минуты своей жизни он сочинял разные программы балетов, одна другой лучше, интереснее и блистательнее».*
В жизни Дидло был свойственен сильный темперамент, он был фанатиком своего дела и, по утверждениям современников, творил «в самозабвении». Леонид Гроссман приводит рассказ ученицы Дидло А. Е. Асенковой: «Во время репетиции в Эрмитаже балета "Амур и Психея" одной из танцовщиц кордебалета недостало лиры или вазы. Дидло в бешенстве бросился бежать по Невскому, имея на одной ноге красный сапог, на другой черный, без шапки, обмотав голову каким-то газовым радужных цветов покрывалом. В этом виде он прибежал в Малый театр, взял, что было нужно, и тем же трактом отправился назад. Народ, естественно, счел его сумасшедшим и валил за ним толпою».*
В 1829 году после ссоры с директором императорских театров князем С. С. Гагариным, который в качестве последнего аргумента в споре посадил пожилого хореографа, несмотря на его европейскую славу и преклонный возраст, под арест — Дидло подает в отставку. «До последней минуты своей жизни он сочинял разные программы балетов, одна другой лучше, интереснее и блистательнее».*
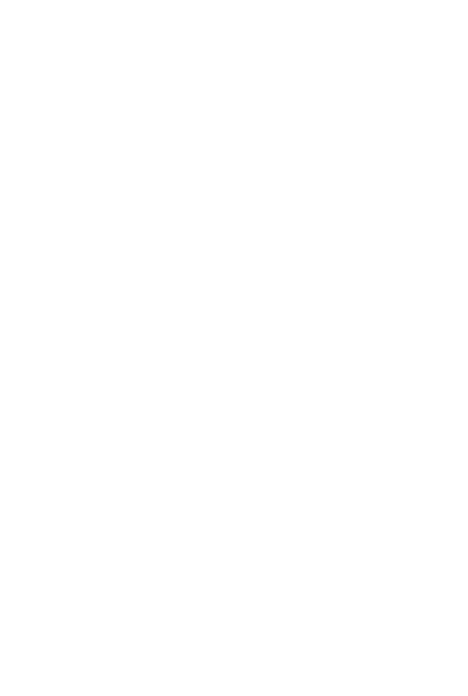
Портрет Ш.-Л. Дидло. Шарж, рисунок А. О. Орловского. Из фондов Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
Жихарев С. П. Записки современника. Москва-Ленинград, 1955. С. 285.
Гроссман Л. П. Пушкин в театральных креслах // Гроссман Л. П. Записки Д’Аршиака. Пушкин в театральных креслах. Москва, 1990. С. 391.
Гроссман Л. П. Пушкин в театральных креслах // Гроссман Л. П. Записки Д’Аршиака. Пушкин в театральных креслах. Москва, 1990. С. 394.
Дидло стал первым балетмейстером, кто, как А. С. Пушкин, обратился в своем творчестве к кавказской теме, и первым, кто открыл перед петербургским зрителем «театрального» Пушкина. 15 января 1823 года, на сцене Большого (Каменного) театра состоялась премьера «древнего национально-пантомимного балета в 4-х действиях со сражениями, играми, маршами и т. д.» «Кавказский пленник, или Тень невесты».
27 марта 1839 года родилась артистка балета и оперетты Вера Александровна Лядова.
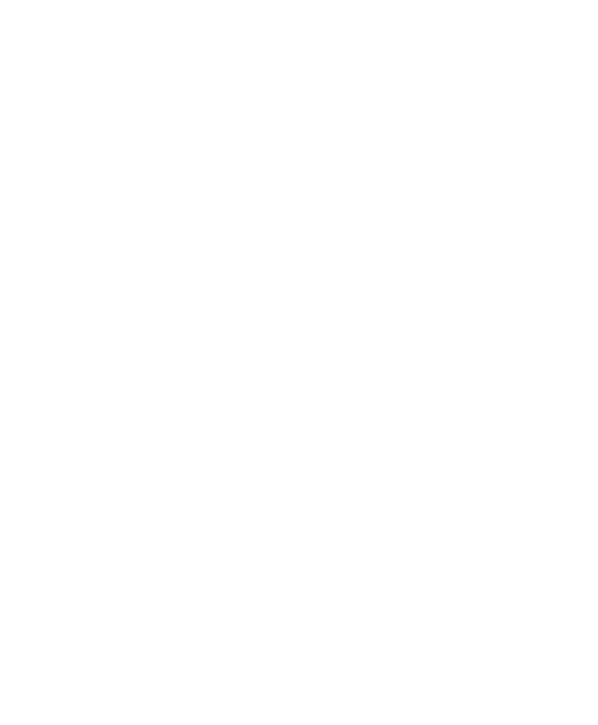
Портрет В. А. Лядовой. Гравюра с фотографии. Гравер — Л. А. Серяков;
Фотограф — К. И. Бергамаско, Автор рисунка на дереве — П. Ф. Борель. 1870-е гг. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Ученица Мариуса Петипа, жена балетмейстера Льва Ивановича Иванова, Вера Александровна по своему рождению принадлежала к артистическому семейству. Отец — Александр Николаевич Лядов, балетный дирижер Императорских театров, мать — Любовь Александровна Федорова — балерина, дядя — Константин Николаевич Лядов, главный капельмейстером русской оперы в Санкт-Петербурге.
В. А. Лядова с 10-летнего возраста была помещена в Императорское Санкт-Петербургское Театральное училище, где с успехом одновременно изучала танцевальное и драматическое искусство, а в марте 1858 года была выпущена корифейкой — танцовщицей кордебалета, занимающая первые места в группе танцующих.
Первые спектакли показали, что ее стихия — характерный танец, в котором она была чрезвычайно выразительна, легка, грациозна и очень нравилась зрителям. В продолжение своего пребывания в Императорской труппе артистка участвовала во многих популярных балетах того времени: «Парижский рынок», «Конек-Горбунок, или Царь-девица», «Маркитантка» Ц. Пуни, «Своенравная жена» А. Адана, «Фиаметта, или Торжество любви» и «Золотая рыбка» Л. Минкуса, «Тщетная предосторожность» П. Гертеля, «Метеора, или Долина звезд» С. Пинто и др.
В. А. Лядова с 10-летнего возраста была помещена в Императорское Санкт-Петербургское Театральное училище, где с успехом одновременно изучала танцевальное и драматическое искусство, а в марте 1858 года была выпущена корифейкой — танцовщицей кордебалета, занимающая первые места в группе танцующих.
Первые спектакли показали, что ее стихия — характерный танец, в котором она была чрезвычайно выразительна, легка, грациозна и очень нравилась зрителям. В продолжение своего пребывания в Императорской труппе артистка участвовала во многих популярных балетах того времени: «Парижский рынок», «Конек-Горбунок, или Царь-девица», «Маркитантка» Ц. Пуни, «Своенравная жена» А. Адана, «Фиаметта, или Торжество любви» и «Золотая рыбка» Л. Минкуса, «Тщетная предосторожность» П. Гертеля, «Метеора, или Долина звезд» С. Пинто и др.
В. А. Лядова в роли Елены в оперетте «Прекрасная Елена» Александринского театра. 1868 г. Из фондов СПбГМТМИ.
В. А. Лядова в роли Елены, С. Я. Марковецкий в роли Менелая, Н. Ф. Сазонов в роли Париса в оперетте «Прекрасная Елена» Александринского театра. 1868 г. Из фондов СПбГМТМИ.
В. А. Лядова в роли. Из альбома А. А. Бахрушина. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
В. А. Лядова в роли. Из альбома А. А. Бахрушина. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Вера Александровна также обладала голосом приятного тембра и верной интонации, что позволило ей стать выдающейся артисткой оперетты. Так случилось, что актриса русской драматической труппы Елизавета Матвеевна Левкеева уговорила Веру Александровну участвовать в своем бенефисе и осенью 1865 года Лядова явилась на сцене Александринского театра в водевиле «Барская спесь и Анютины глазки» в роли деревенской девушки Анюты.
А уже через три года ее ожидал подлинный триумф в оперетте Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена», данной в бенефис режиссера Александринского театра Александра Александровича Яблочкина. Вера Александровна сразу же стала кумиром публики.
Привлекательная внешность, мастерское владение голосом, изящество пластики упрочили ее славу артистки оперетты. Артист Александр Алексеевич Алексеев в своих воспоминаниях пишет: «Весь Петербург устремился в Александринку послушать и посмотреть несравненную Лядову, которая оказалась лучше знаменитой французской опереточной звездочки Деверш, гостившей в то время в столице и выступавшей в тех же самых ролях, в коих выступала и Вера Александровна. Нужно заметить, что первоначальный успех Деверш был страшно велик, но Лядова значительно его сократила и, в конце концов, завладела им совсем. Прославленная Прекрасная Елена-Деверия играла почти при пустом [Михайловском] театре, а в Александринский театр билеты разбирались с бою»*.
А уже через три года ее ожидал подлинный триумф в оперетте Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена», данной в бенефис режиссера Александринского театра Александра Александровича Яблочкина. Вера Александровна сразу же стала кумиром публики.
Привлекательная внешность, мастерское владение голосом, изящество пластики упрочили ее славу артистки оперетты. Артист Александр Алексеевич Алексеев в своих воспоминаниях пишет: «Весь Петербург устремился в Александринку послушать и посмотреть несравненную Лядову, которая оказалась лучше знаменитой французской опереточной звездочки Деверш, гостившей в то время в столице и выступавшей в тех же самых ролях, в коих выступала и Вера Александровна. Нужно заметить, что первоначальный успех Деверш был страшно велик, но Лядова значительно его сократила и, в конце концов, завладела им совсем. Прославленная Прекрасная Елена-Деверия играла почти при пустом [Михайловском] театре, а в Александринский театр билеты разбирались с бою»*.
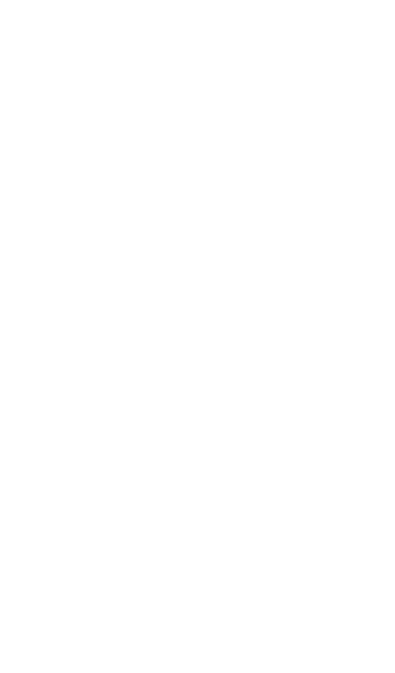
В. А. Лядова. Из фондов Александринского театра.
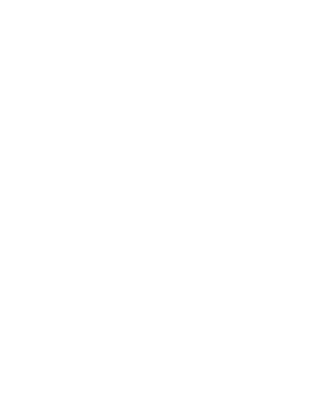
В. А. Лядова. Гравюра. Из фондов СПбГМТМИ.
В самое короткое время у Веры Александровны составился довольно обширный репертуар, из названий спектаклей которого можно представить, какого плана были созданные ею женские образы: «Царство женщин», «Все мы жаждем любви», «Слабая струна», «Любовные проказы», «Русская свадьба», «Простушка и воспитанная», «Ворона в павлиньих перьях», «Вспышка у домашнего очага», «Взаимное обучение», «Дочь второго полка», «Любовное зелье», «Бедовая девушка», «Катерина или Золотой крестик»…
«Это один из тех богатых русских самородков, которые одарены божественной искрой и таким талантом, сила и значение которого не сознается самим самородком. ... Она создавала чутьем, поражала зрителей, не отдавая себе отчета, почему играет она так, а не иначе и почему в ее исполнении все выходит художественно. Неумолимый рок, тяготеющий над русской сценой не дал этому самородку времени развиться».* Вера Александровна ушла со сцены в зените своей славы: 5 апреля 1870 года ее не стало. Сильная простуда была причиной ее преждевременной смерти.
«Это один из тех богатых русских самородков, которые одарены божественной искрой и таким талантом, сила и значение которого не сознается самим самородком. ... Она создавала чутьем, поражала зрителей, не отдавая себе отчета, почему играет она так, а не иначе и почему в ее исполнении все выходит художественно. Неумолимый рок, тяготеющий над русской сценой не дал этому самородку времени развиться».* Вера Александровна ушла со сцены в зените своей славы: 5 апреля 1870 года ее не стало. Сильная простуда была причиной ее преждевременной смерти.
Алексеев А. А. Воспоминания актера А. А. Алексеева. Москва, 1894. С. 190.
На кладбище русской сцены (Из воспоминаний старого театрала) // Театральный мирок. 1885. 7 сент. (№ 35). С. 3.